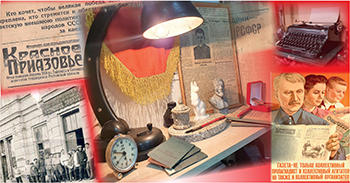9 мая 2023 года. Ростов-на-Дону утопает в праздничной суете Дня Победы. Парад в самом разгаре: звонкие марши духового оркестра смешиваются с гулом толпы, а над площадью витает торжественный дух. По улице Садовой движется Бессмертный полк — людской поток, несущий портреты тех, кто выстоял в Великой Отечественной войне. Мы с семьей идем в этой колонне. В руках у нас фотографии наших предков-героев, чьи судьбы навсегда вплетены в историю страны. Мой отец, священник Александр, настоятель храма апостола Андрея Первозванного, бережно держит два портрета своих дедов. Их лица, выцветшие на старых снимках, смотрят на нас с тихой гордостью.
— Папа, папа, смотри, самолеты! — мой младший брат Андрюша, которому едва исполнилось шесть, восторженно тычет пальцем в небо. Его глаза сияют, отражая солнечные блики.
Отец прищуривается, глядя вверх, и мягко улыбается.
— Это не просто самолеты, сынок. Это СУ-30СМ — элита нашей авиации, настоящие ястребы. Они взмывают на пятнадцать километров, а их приборы видят все в радиусе трехсот километров. Такие машины — властелины неба. С ними ни один враг не справится.
Андрюша замирает, пытаясь осмыслить слова отца. Самолеты, словно стая хищных птиц, пролетают над нами, оставляя за собой раскатистый гул. Их стремительные силуэты на фоне синевы кажутся воплощением мощи.
— Пап, а можно мне на таком полетать? — Андрюша хмурит брови, его голос становится серьезнее.
— Когда вырастешь, сын, станешь сильным духом и телом, сможешь поступить в летное училище, — отвечает отец, прижимая его к себе. — Но туда берут только самых лучших — умных, смелых, крепких.
Андрюша кивает, словно принимая вызов. Я смотрю на него и думаю, как в этом маленьком мальчике уже просыпается мечта о небе, как когда-то она загорелась в сердцах наших предков.
Тем временем в небе разворачивается своя история.
— Идем ровно, парни, вот Ольгинская, Аксай, заходим на Ростов, — голос старшего лейтенанта Андрея, штурмана истребительной авиации, звучит в рации уверенно и спокойно. — Летим над Доном, красота! Порадуем наших аксайцев и ростовчан. Мои близкие там, внизу, смотрят на нас.
Истребители СУ-30СМ идут клином, держа строй с ювелирной точностью. Их бело-синие фюзеляжи с двойными хвостами сверкают в лучах солнца. Самолеты летят на низкой высоте, всего в пятнадцати метрах друг от друга, с небольшой скоростью, чтобы зрители могли разглядеть их во всей красе. Воздух дрожит от характерного свиста турбин. В кабинах — лучшие пилоты, мастера своего дела. Управлять такой машиной — задача не из легких. Перегрузки могут достигать шести «Ж», когда тело становится в шесть раз тяжелее, а кровь отливает от головы. Скорость СУ-30СМ превышает 2100 километров в час, а максимальная высота полета — 17300 метров. Это не просто самолеты, это символы силы и свободы.
Я слежу за их полетом, и в груди разливается тепло. Эти машины — продолжение той самой мечты о небе, которую наши предки пронесли через годы войны и лишений.
После парада мы возвращаемся домой. Усталые, но счастливые, садимся в гостиной. Андрюша, все еще под впечатлением, теребит отца вопросами о самолетах. Я решаю задать свой.
— Папа, а у нас в роду были летчики?
Отец смотрит на меня с теплотой.
— Были, доченька. Твой прадед, Степан Пантелеевич Мороз, кубанский казак из станицы Новолеушковской, служил в истребительной авиации во время Великой Отечественной.
— Расскажи о нем, пожалуйста, — я устраиваюсь в кресле, предвкушая историю.
Отец откидывается назад, его взгляд устремляется куда-то вдаль, словно он видит те далекие годы.
— Представь себе август 1943-го. Жаркий день на юге. Степан Пантелеевич сидит на пеньке у взлетной полосы, задумчиво курит папиросу. Он снял фуражку, вытер пот со лба — солнце палит нещадно, а тени почти нет. Ему сорок три, но лицо его уже изрезано морщинами от пережитого.
Степан, родившийся в 1900 году, был казаком прославленного запорожского рода. С детства он грезил небом. Мальчишкой мастерил самолетики из бумаги и, забравшись на колокольню станичного храма, пускал их в полет. Он часами смотрел, как его бумажные птицы парят над хутором, мечтая, что однажды сам поднимется в небо. Однажды один из его самолетиков, сделанный из старого номера «Екатеринодарских ведомостей», улетел прямо на подворье станичного атамана Григория Перебейноса.
Степан, запыхавшись, прибежал к калитке атамана.
— Григорий Иванович, простите, это мой самолетик, — пробормотал он, виновато глядя в землю.
Старый казак, с седыми усами и добрыми глазами, поднял бумажную игрушку и улыбнулся.
— Любишь небо, казачонок? Хочешь летать? — спросил он ласково.
Степан кивнул, не в силах сдержать восторг.
— Знаешь, на фронте появились диковинные машины — самолеты, — продолжил атаман. — У них большие крылья, а спереди винт. Сверху пилотам видно все: где враг засел, где пушки спрятаны. Вот так, представляешь!
— Я стану летчиком, когда вырасту! — выпалил Степан и, схватив самолетик, умчался.
Эта встреча запала ему в душу. После гражданской войны, в 1923 году, Степан поступил в летное училище в городе Козлов (ныне Мичуринск). Учился он с упорством, впитывая каждую крупицу знаний. Окончил училище с отличием и начал летать на первых самолетах Советской Армии. Его талант раскрылся в боях на Халхин-Голе, где он сбивал японские самолеты, за что был представлен к званию Героя Советского Союза. Но награда обошла его стороной — то ли из-за бюрократии, то ли из-за зависти.
К 1941 году Степан, уже опытный летчик в звании капитана, командовал полком истребителей под Армавиром. Ему шел сорок первый год, и все в жизни складывалось: служба, уважение подчиненных, планы на будущее. Но судьба готовила испытание. Кто-то из родной станицы донес, что старший брат Степана, Семен Мороз, воевал за белых казаков в гражданскую и ушел в эмиграцию. Семена Степан едва знал — разница в возрасте была больше двадцати лет, а родители молчали о брате, храня семейную тайну. Но донос сделал свое дело. Степана разжаловали в рядовые и отправили в летный штрафбат.
Там он летал на планерах, которые летчики называли «одноразовыми». Их задача была простой, но смертельно опасной: на низкой высоте долететь до врага, сбросить бомбы и, если повезет, вернуться. Шесть раз немцы сбивали Степана за линией фронта. И шесть раз он возвращался — пешком, под обстрелами, через леса и болота. Его казачья смекалка и железная воля не раз спасали ему жизнь. Немцы даже прозвали его «неуловимым казаком», но поймать так и не смогли.
Ночью Степан летал за линию фронта, осваивая навигацию по приборам — в те годы это было редким умением. Он делился опытом с молодыми летчицами, которых немцы называли «ночными ведьмами». На своих У-2 они подлетали к врагу под покровом темноты, сбрасывали бомбы с такой точностью, что фашисты приходили в ужас.
Вскоре заслуги Степана перед Родиной признали. Его реабилитировали, вернули в родной полк, который к тому времени перебазировался на Западную Украину. Степан стал начальником штаба. Молодой командир полка, годившийся ему в сыновья, уважал его как отца. Вместе они прошли до конца войны. Степан учил молодых летчиков тонкостям воздушного боя, и к 1945 году его подопечные лихо сбивали немецкие «мессершмитты», словно охотники — дичь.
…Я слушаю отца, и перед глазами оживают картины прошлого. Андрюша, устроившийся на коленях у папы, давно заснул, сжимая в кулачке орден Красной Звезды прадеда. Его дыхание тихое, спокойное, а лицо такое умиротворенное, будто он видит во сне те самые самолеты.
— Пусть спит, наш маленький воин, — шепчет отец, осторожно перенося брата в кровать. — Его предки, там, в Царствии Небесном, молятся за него.
…Мы сидим в тишине. Я думаю о том, как хрупка жизнь и как велика сила памяти. Наши прадеды сражались за нас, за мирное небо, за то, чтобы мы могли идти по Садовой с портретами в руках, смотреть на самолеты и мечтать. Их подвиги — это наш долг, наша ответственность. Мы обязаны помнить.
Анна НАЗАРЕНКО.
Ученица 4 класса Обуховской СОШ/