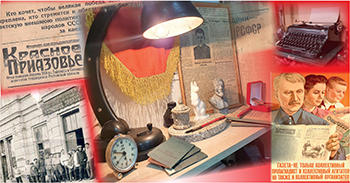В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике ежегодно открывает свои двери археологическая выставка «Забытый город – забытой страны». Ее организатор — кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии АМЗ Андрей Николаевич Масловский. В витринах выставки бережно собрано 287 экспонатов, каждый из которых хранит историю далекого прошлого. Основу экспозиции составляют предметы из одной хозяйственной ямы — настоящего окна в жизнь золотоордынского города
Итоги археологических исследований за 2024 год стали основой для ежегодной выставки «Забытый город – забытой страны. Часть 2». Эта экспозиция, представленная публике, раскрывает удивительные подробности жизни средневекового Азака через находки, обнаруженные в яме у дома № 2 по улице Толстого. Среди них — штампованная керамика Крыма, кашинные чаши и простые бытовые сосуды, которые вместе составляют уникальный сервиз, отражающий вкусы и привычки людей той эпохи.
Наиболее многочисленной категорией находок оказалась штампованная керамика с поливой, произведенная в городах Юго-Восточного Крыма. Использование глазури для керамики со штампованным орнаментом было оригинальным изобретением именно крымских мастеров. Это новшество выделяло их изделия среди других, подчеркивая местный колорит и мастерство. Однако целесообразность такого подхода вызывает вопросы. Слой глазури, покрывая поверхность, часто скрывал тонкие детали штампованного декора, из-за чего гончарам приходилось увеличивать размер элементов орнамента. Это придавало изделиям несколько грубоватый облик, особенно в сравнении с изящными импортными сосудами, которые попадали в регион через торговые пути.
Тем не менее, восточноевропейские потребители, судя по всему, не были слишком искушенными эстетами. Они охотно покупали эти поливные кувшины со штампованным декором, ценя их практичность и доступность. В 1330-е годы популярность таких сосудов достигла своего пика, став настоящим трендом того времени.
— Как мы видим, в любви к подобным сосудам хозяин усадьбы ничем не отличался от своих земляков, — комментирует археолог Андрей Масловский. Его наблюдение подчеркивает, что владелец дома следовал общим вкусам своего окружения, выбирая массовую, но модную керамику для повседневного использования.
Парадная роскошь из Крыма
Однако экономия на изысканных чашах с тонким орнаментом не помешала хозяину приобрести два больших парадных сосуда: чашу и блюдо, также изготовленные в Юго-Восточном Крыму. Эти предметы, вероятно, были самыми дорогими в его коллекции. Их использовали, скорее всего, только для сервировки праздничного стола, чтобы подчеркнуть статус и достаток семьи. Изготовление крупных низких сосудов на гончарном круге требовало от мастера исключительного уровня мастерства. В 1330-е годы в Азак из Крыма ввозили большие чаши и блюда диаметром 30–40 см — настоящие произведения искусства своего времени. Их стоимость, вероятно, в несколько раз превышала цену обычных столовых чаш, а сложный орнамент на большой чаше только увеличивал ее ценность. Эти предметы были не просто посудой, а символом престижа, который хозяин усадьбы демонстрировал гостям в особые дни.
Среди почти тридцати поливных сосудов, найденных в яме, лишь два были изготовлены в самом Азаке. Они отличаются непритязательным обликом и полным отсутствием орнамента — единственные такие в поливном сервизе из этой находки.
— Опять-таки, это, вероятно, характеризует личные вкусы хозяина, поскольку в то время на рынках Азака уже можно было найти достаточно красивые, орнаментированные сосуды местного производства, — отмечает Андрей Масловский. — Возможно, владелец усадьбы предпочитал простоту в повседневной жизни, оставляя роскошь для редких случаев, или же эти сосуды были куплены из соображений экономии.
Тайна кашинных чаш: искусство Востока
Завершающими элементами столового набора стали три кашинные чаши, которые резко выделяются на фоне остальной керамики. Кашин — это особый состав, изобретенный на Ближнем Востоке за несколько столетий до описываемых событий. Для его изготовления использовался чистый кварцевый песок, который тщательно размалывался в порошок. Затем в него добавляли связующие вещества — изначально белую глину и известь. Полученную смесь разводили водой и разливали по керамическим формам. После извлечения заготовок их покрывали ангобом — фоновой светло-серой краской, затем расписывали и обжигали, добавляя фритту — размолотые в порошок частицы стекла. Этот процесс требовал точности и опыта, а для декорирования кашинных чаш применялись самые дорогие техники: роспись эмалями (легкоплавкими стеклами) и люстром (оксидами металлов), что делало такие изделия настоящими произведениями искусства.
Чаши, найденные в яме у дома № 2 по улице Толстого, были расписаны в так называемом «Султанабадском стиле», но в его упрощенном варианте. Отдельные элементы орнамента наносились белым ангобом на светло-серый фон, что придавало декору рельефность и создавало эффект игры света. Каждая деталь обводилась тонкими линиями серо-зеленой краски, а мелкий декор на фоне основных узоров выполнялся той же краской. Для большей красочности некоторые элементы раскрашивались ультрамариновой и бирюзовой красками, добавляя чашам яркости и изысканности. Подобную керамику производили в историческом регионе Восточного Ирана — Хорасане, который сегодня разделен между Ираном, Афганистаном и Туркменией.
Калейдоскоп узоров: от барсов до рыбок
Декор этих чаш состоял из ограниченного числа элементов, которые, однако, подобно кусочкам стекла в калейдоскопе, комбинировались в бесконечное множество узоров. Среди них были барсы, различные виды птиц (иногда даже сказочные существа), цветочные розетки, закручивающиеся в спирали, побеги с крупными листьями, благопожелательные надписи арабскими буквами и геометрические фигуры, такие как звезды. На внешней стороне чаш изображались цветочные лепестки, из-за чего перевернутая чаша напоминала распустившийся цветок. Эти три предмета, объединенные в набор, стали частью сервиза, типичного для эпохи Средневековья, и выделялись своей утонченностью среди более простых сосудов.
Три кашинные чаши образовывали своеобразный сервиз с единой темой. На двух из них изображены летящие водоплавающие птицы, окруженные растениями. На третьей чаше центральное место занимают ряды так называемых «танцующих» или «ныряющих» рыбок. Изначально эти рыбки были детализированными, с четко прорисованными хвостиками, плавниками, жабрами и глазами, но со временем мастера упростили дизайн. В итоге остались лишь изогнутые фигурки в форме запятых с парой штрихов и крупным ультрамариновым пятном вместо глаза. Ряды таких рыбок символизировали водоем, и подобные водоемы присутствовали в декоре рядом с птицами. Таким образом, весь сервиз представлял собой композицию из водоема с рыбками и растениями, над которым порхают птицы.
Мечты о рае в глине
Изображения дополняла благопожелательная надпись из одного арабского слова «икбаль» — «успех». В более ранние времена на сосудах наносили длинные и пространные надписи, обещавшие владельцу благополучие, изобилие и счастье. Эти тексты были полны возвышенных образов, желаний процветания, достатка и радости — всего того, что считалось великим, вечным и непреходящим. Причины появления на керамике мотивов водоемов, околоводных птиц и растений легко понять, если взглянуть на ландшафты Ближнего Востока и Ирана. Среди иссушенных зноем скал и полупустынь идея рая как сада с прохладным прудом и яркими птицами стала особенно притягательной.
Кашинные сосуды пришли в Золотую Орду из государств Мамлюков и Хулагуидов. В 1330-е годы их производство наладили в городах Нижнего Поволжья, но этому предшествовали драматические события. Государство Хулагуидов, созданное внуком Чингисхана Хулагу, включало современный Иран, Ирак, Азербайджан, Армению, часть Турции, Туркмении и Афганистана. Эти разнородные территории держались вместе только благодаря сильному правителю. Смуты сотрясали страну, но она оставалась грозным соперником Мамлюков и Золотой Орды. Казалось, ее величие продлится еще долго, но в 1335 году ильхан Абу-Саид умер без наследников. Его имя, означающее «отец», оказалось пророчески неточным. Государство рухнуло: наместники боролись за власть, прикрываясь марионеточными правителями, а кровопролитные сражения показали, что никто не способен объединить страну.
От Ирана до Золотой Орды: путь мастеров
Пока эмиры делили власть, экономика приходила в упадок. Ремесленники, ища спасения, переселялись на северный берег Каспийского моря, в города Золотой Орды. Их культура не была чужой для этих земель: персидский язык был широко распространен в Улусе Джучи, а города Нижнего Поволжья бурно развивались. Здесь иранские мастера наладили производство кашинной керамики, адаптировав технологию. Песок перемалывали не так тонко, вместо белой глины и извести использовали животный клей. Черепок стал менее твердым и более толстым, приобретя красноватый оттенок. Роспись упростили, увеличив детали орнамента, чтобы сделать изделия доступнее. Так появился золотоордынский стиль кашинной керамики.
Когда формировался сервиз, выброшенный в яму у дома № 2, кашинная керамика из Нижнего Поволжья была новинкой. В этот набор вошли как сосуды, почти вышедшие из употребления, так и только что появившиеся на рынке. Помимо сервиза в яме нашли обычный мусор: обломки простых сосудов из Азака и других регионов Золотой Орды. Такие находки типичны для хозяйственных ям. Эти кувшины для воды и афтобы-водолеи не выбрасывали специально — они, вероятно, годами валялись под ногами, пока их не убрали. Обломки разрозненны и не склеиваются, но именно они дополняют картину повседневной жизни средневекового Азака.